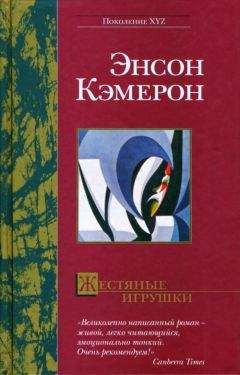Дмитрий Поляков (Катин) - Дети новолуния [роман]
Спустились, наконец, с гор на понятную и привычную равнину. Старик не слезал с коня. Его сгорбленная фигура мерно покачивалась в седле. Он ехал, погружённый в себя, злой. Никто не смел к нему обратиться. С важными вопросами предпочитали идти к Тулую, который тоже боялся лезть к отцу без лишней надобности и решал всё сам. Привалов не было, каан молчал. Ели на ходу. Находились и такие, кто по старинке клал кусок сырого мяса под седло и по мере надобности отрезал ломтик, не нуждаясь ни в костре, ни в отдыхе. Сам старик практически не прикасался к пище. Он часто клевал носом на ходу, а проснувшись, не мог поверить, что только что спал.
Войско сделало ещё один подъём, чтобы спуститься в каменистую долину, и, взойдя наверх, вдруг замерло без приказа на месте, как уже было однажды. Внизу всюду, куда долетал взгляд, колыхалось ровное кровавое море алых маков. Старик подвёл коня к краю обрыва. Несомненно, это были те самые поля, что походя вытоптала его конница. Но они вновь были наполнены мириадами живых цветов, которые насмешливо глядели на него и качались под ветром, будто дразнили, звали — иди к нам. Ему показалось даже, что их стало больше, что они везде — и в небе, и на камнях, и в воздухе. Он закрыл глаза, чтобы не видеть этого красного покрывала.
— В обход, — мрачно сказал каан, и тумен послушно повернул в сторону.
13Отставшие части Чагатая нагнали их уже в землях уйгуров. Пополнившееся туменами Мухали войско каана стало лагерем посреди голой равнины. Вот уже третьи сутки каан не выходил из своего шатра, который не любил, предпочитая юрту. Но юрту тащила упряжка быков, они не поспевали за ними. Никого в общем-то не удивляло то, что старик надумал уединиться. До этого он гнал войско без передышки много дней подряд, как будто их ждали великие дела и не было времени развлекаться. Да и погода не располагала к прогулкам — лил дождь.
Посоветовавшись с Тулуем, Чагатай всё-таки решил навестить отца. Тем более что вместе с ним в стойбище прибыл большой отряд из Керулена, который привёз не только подарки, но и вести из дома. Гибкий, жилистый Чагатай громким криком предупредил отца, что зайдёт к нему в шатёр. Не дождавшись ответа, он откинул полог и перешагнул через порог. Старик сидел неподвижно перед потухшими углями. Увидев сына, он улыбнулся, подозвал его к себе и обнял. Он как-то похудел, обострился, но Чагатай не сказал ему этого. Разожгли костер. Чагатай сел рядом и стал рассказывать, что знает. Старик внимательно слушал, кивал одобрительно и хмурился, если новости не радовали.
— Здесь холодно, — ни с того ни с сего брякнул он.
Чагатай вежливо умолк. Но продолжения не последовало. Тогда Чагатай сказал, что прибыли повозки из Керулена. Старик сразу оживился и приказал привести гонцов с родины. Пришли трое родовитых нойонов. Они рухнули на колени и подползли к сапогам каана. Тот предложил им сесть. Беседа затянулась до глубокой ночи. К тому времени дождь внезапно кончился, и в небе проглянули тысячи мерцающих звёзд. Старик был прост и сердечен. Когда аудиенция наконец завершилась и нойоны задом попятились к выходу, беспрерывно кланяясь и желая каану всех мыслимых благ, один из них хлопнул себя по лбу:
— Э-э-э! Забыл! Подарки!
Сбиваясь с ног, все трое кинулись вон и через минуту вернулись, держа в охапке кожаные тюки. Каан довольно щурился, когда перед ним выкладывались кафтаны, рубашки, сапоги, ножи, дорогие амулеты. Под конец самый рослый нойон с загадочным видом открыл последний мешок, поднял его над головой, встряхнул — и из мешка толстой меховой струёй к ногам каана вылетела шкура огромного волка. Его голова ударилась в мысок сапога сломанным жёлтым клыком. Удивительным был окрас этого зверя — серо-голубой, точно снег под лучами вечернего солнца.
Они ждали слов одобрения, но каан изменился в лице, отпрянул и вдруг закричал, не отрывая глаз от шкуры:
— Вон отсюда!!
А когда все вывалились из гэра, он схватил эту огромную, лобастую, с пустыми глазницами голову, притянул к себе и уткнулся в неё лбом. Плечи его содрогались, точно от рыданий, но он не рыдал — он тихо выл, глухо и безнадёжно, как воет волк, угодивший в ловушку, от боли и бесконечного одиночества.
14«Если человек никогда не видел солнца, он бы не страдал в темноте. А если не знал ночи, его не терзало её отсутствие. Мы просто не знаем, что есть ещё, кроме дня и ночи. Вот если бы мы это узнали, вот тогда, может быть, и день с ночью показались бы нам тусклыми и томительными — без того, чего мы пока не знаем. Не надо бояться. Сколько ещё неизведанного! Совсем не надо бояться».
Так думал старый китайский монах, возвращаясь на путь, ведущий домой.
Дорога — эпилог
— Вертолёт? Это уже слишком.
— Да, господин президент. Но так считает служба охраны.
Через толстые стёкла пробивался мерный рокот вертолётных лопастей.
— Сверху всё лучше видно.
— Можно подумать, мы едем на фронт, а не на формальное мероприятие.
— Согласен, господин президент. Но в городе всякое может быть. К тому же мы заранее объявили о вашей поездке.
— А почему не бэтээр? Не танки, в конце концов? Мало, что перекрыли полгорода.
— Это ненадолго.
— Нет, точно, гудят. Нам сигналят.
— Не каждый день видишь президентский кортеж. Вот и гудят.
— Да нет, гудят потому, что стоят, нас пропускают. Со зла.
— Можно включить музыку.
— Не надо. И так голова… За дурака меня, что ли, держишь? А то я не понимаю — что, зачем и почему?
— Простите, господин президент.
— То-то же… Ладно, ставь музыку.
Кавалькада из десяти бронированных лимузинов неслась меж оттиснутых к обочине и сбившихся на перекрёстках автомобилей, словно спасаясь от цунами. Он вновь прислушался и бросил взгляд наверх. А ведь ему нравилось, что процессию эскортирует боевой вертолёт. В этом видна была сила, мощь. А мощь — это красота. Красота, мощь, сила — одно и то же. Ему нравилась игра мускулов. И вообще, здоровье. Поэтому его окружали преимущественно здоровые люди, спокойные, сильные и без вредных пристрастий. Пьяницы, истерики, безнадёжные рохли — у таких не было шанса.
Мышцы приятно томило после того, как утром он проплыл не обычную для себя тысячу, а тысячу пятьсот метров. Зачем-то вспомнилась коммуналка, в которой он вырос, с маленькой кухней на пять комнат. В глубине души он высоко ценил эту школу непритязательной жизни.
С экрана монитора в режиме односторонней видеосвязи гладкое лицо экономического советника сумрачно докладывало, глядя в какую-то близкую точку:
— И вообще, наши финансы перегружены долговыми обязательствами государств с более чем сомнительными перспективами по кредитоспособности. Данные рейтинговых агентств вам хорошо известны: они неутешительны даже в отношении тех, в ком мы были стопроцентно уверены ещё год назад. Если так пойдёт дальше, мы рискуем заполучить горы ничем не обеспеченных бумаг в самый разгар экономического кризиса.
— И что нам делать?
— Тихо, незаметно продавать.
— Тихо-незаметно?
— Ну да, хотя бы через третьи руки, до тех пор, пока есть возможность. Вообще говоря, очень много, конечно, не сбросить, но уж сколько успеем. У нас у самих не всё в порядке с ликвидностью активов, да и с возможностью мобилизации финансовых ресурсов тоже. Как вам хорошо известно. А идти на долговые рынки…
— Вы и вправду думаете, что в таком деле что-то можно сделать незаметно?
— Что-то — можно. Тем более что заметно нам это вряд ли позволят.
— Ну ладно, — он потянулся к кнопке выключателя, — поговорим позже.
— И ещё, — остановил его советник, — есть сведения, что нас самих могут понизить до мусорного уровня. Как минимум, S&P. И довольно скоро.
— Я знаю, — сказал он и нажал кнопку.
Подумав, взял телефонную трубку:
— Скрипт донесений по нефти, точнее, по намерениям сбивать нефтяные цены — к трём мне на стол. И по газу тоже… При чём тут ОПЕК? Штаты. Меня интересуют Штаты!
Трубка отлетела на край сиденья.
Если они повалят цены на нефть, крышка. Тогда рост налогов, безработица… Придётся давить на соцсектор. Этого не простят… Что дальше? Революция? Бунт? Ничего же не объяснишь… Зажрались все, отупели. Полиция в шоколаде…
Опять ему вспомнилась давняя, почти сказочная жизнь в коммуналке на рабочей окраине Саратова. Он любил весну, ледяную, раннюю, когда земля отмерзала, распухала и крепко пахла злым духом возрождения наперекор ещё не сошедшему снегу и можно было ходить без шапки, в прохудившихся, насквозь мокрых ботинках, жечь сырые костры, пуская по кругу собранные в пивных «бычки». «А на кой хрен ставить коронки, раз всё равно подохнешь? — прокуренным голосом спрашивал отец, разглядывая свои зубы в зеркале на скрипучей дверце шкафа. — Чего ради мучиться?» Так и не вставил, пожалел и себя, и денег.